| Главная страница | Номера | Именной указатель | Где купить журнал |
Григорий ПомеранцВера и свобода
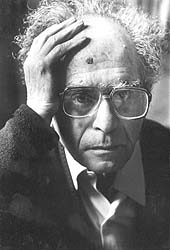 |
Возрождение Германии не случайно началось с долголетнего правления христианско-демократической партии. Она лучше, чем социал-демократы (большей частью атеисты и агностики), выразила дух времени, дух национального покаяния. У социал-демократов не было четко выраженного чувства священного, а без него трудно было вновь утвердить расшатанную иерархию ценностей. Это партия со своим пафосом, с требованием социальных реформ, выравнивая доходов, преодоления нищеты. Там, где нет партии с подобным названием, та же роль исполняется под другим именем (например, демократами в США). Но заслонить лик зверя мог только лик Христа, и это ничем нельзя было заменить. В конце сороковых годов христианство в Германии было не только частным делом верующих. Оно стало знаком возвращения Германии в число цивилизованных стран, примирения с Францией, примирения с Израилем, создания единой Европы. Аденауэр и Шуман, сделавшие решающий шаг к европейскому единству, оба - христиане, оба - друзья Фрэнка Бухмана, борца за религиозное и моральное обновление мира. Час социалистов пришел позже. В 1946 году они каялись и прощали не как социалисты, а как христиане или, по крайней мере, люди христианской культуры.
Можно понять, почему у нас не оказалось политиков, сравнимых с Аденауэром, и экономистов такого ранга, как Эрхардт. Наш кошмар длился не 12 лет, а гораздо больше, и люди старой закалки были истреблены или просто вымерли. Но почему все-таки не сложилась хоть плохонькая христианско-демократическая партия? Хотя бы на уровне "Яблока" или Союза правых сил? Я думаю, что при нынешней Патриархии она и не сложится. У русского православия нет христианско-демократической программы. Более того, судя по публицистам, выступающим от имени Церкви, есть очень сильная склонность к черной сотне.
Можно отмахиваться от этого и называть всего лишь пеной вокруг Церкви. Но никак нельзя отмахнуться от вялости церковной мысли. Нет способности ответить на вопросы современного ума. Многие люди, ищущие доступа к вере, не находят в Церкви того, что они искали, и возвращаются к агностицизму или пополнят другие религиозные общины.
Состояние Церкви в царской России далеко не было удовлетворительным. Одной из причин кризиса, который ленинцы использовали, был "паралич Церкви"; об этом с горечью писали религиозные мыслители. Если бы христианство глубже укоренилось в народе, не так легко было бы рушить храмы. Церкви Германии признали свою вину за нацизм. У нас об омертвении дореволюционной Церкви говорят только миряне. Но даже если в прошлом все было не так уж плохо - сейчас другое время. Каждая эпоха должна искать свой собственный, новый подход к вечному. И простая реставрация старого, без анализа причин, по которым оно рухнуло, - не выход.
Режет глаза отрицание экуменизма, а ведь это шаг к возвращению демократической России в демократическую Европу. Это шаг к братской любви между верующими. Отказ от экуменизма связан с отказом от всякого обновления, от реальности истории, требующей переосмысления древних символов. Без экуменизма невозможно сотрудничество религиозных общин в нравственном возрождении России. Война с ересями, действительными и мнимыми, дает новое воплощение духу ненависти, глодавшему коммунистов, и оправдывает требование полицейских мер против конкурентов. Идеал церковных консерваторов - не демократическое государство, а полицейское, и даже тоталитарное┘
Мне несколько раз возражали, что у православия - своя традиция, своя догматика, не менявшаяся с VIII в. Православие в России прочно срослось с русским имперским сознанием, оно не может быть экуменическим, либеральным, открытым современности, оно органически не способно вести диалог с современностью на ее языке. Оно ищет власти, способной охранять его неподвижность и готово поддерживать такую власть. Но ведь нечто сходное можно было говорить о католичестве до Иоанна XXIII. Каноничность - не препятствие внутренней жизни. Рублев строго верен постановлениям VII Вселенского Собора об иконописи - и непосредственно жив в каждом движении своей кисти. Если православные не инертны, инертность православия исчезает. И нетрудно показать на человека, нашего современника, не менее твердого в вере и не менее отзывчивого к жизни, чем Иоанн XXIII. У себя в Англии, в так называемой Сурожской епархии, он очень много сделал и мог бы сделать для всей России, если бы ему не мешали.
Попробую коротко изложить доклад, сделанный Александром Филоненко на конференции в Лидсе, в 1998 г. В 1999 г. доклад был опубликован; передо мной лежит оттиск английского текста: Filonenko A. The Russian Ortodox Church in twentieth century Britain. Laity and "openness to the world"1.
В 1948 году православная епархия в Англии состояла из двух приходов, лондонского и оксфордского. В лондонском было около двухсот стариков и старушек. А во главе этой кучки был поставлен молодой священник Антоний Блум (впоследствии рукоположенный епископом и митрополитом Сурожским). Блум изучал английский язык на ходу, вызывая улыбки своим произношением; но очень скоро его стала слушать вся Англия. Захватывал личный опыт человека, почувствовавшего при первом чтении Евангелия присутствие рядом с собой Христа.
Вл. Антоний считает своим принципом открытость. По его словам, он не проповедовал православия, а только христианство с православной точки зрения. Стремления к прозелитизму не было, но двери церкви держались открытыми. От неофитов требовалась благодарность к Церкви, из которой они выходили, за первое знакомство с христианством и осознанность выбора. Новообращенные несколько лет участвовали в богослужении, но не допускались к таинствам; только после этого испытания их полностью принимали. И все же, православие постепенно становилось одной из английских Церквей. В ней сейчас 25 приходов. Несмотря на приток иммигрантов из России, этнические русские составляют не более 20-25%.
Возмущения "туземцев" таким вторжением в их "каноническое пространство" не было. Напротив, лондонская православная община безвозмездно получила в пользование пустовавший храм, а когда понадобилось приобрести здание в собственность, 30 тысяч фунтов (из 80-ти) собрали инославные, слушатели передач английского радио и телевидения.
Александр Филоненко пишет: "Чтобы провозгласить универсальность православия, его открытость всем народам и культурам, было необходимо ослабить или, по крайней мере, отодвинуть в тень установленную и неоднократно восхваленную связь между русской православной традицией и русской культурой, и это стало одним из самых важных принципов Сурожской епархии┘ Одним из плодов такой открытости было использование английского в литургии┘ Другим проявлением этой открытости было почитание английских святых, богослужения, посвященные их памяти, и создание икон, посвященных им".2
Филоненко цитирует вл. Антония: "Мы не конструируем единства. Скорее мы растем в единстве благодаря все более полной и совершенной верности Евангелию, а если возникают светские проблемы, этнические, культурные и национальные, мы признаем их важность; они имеют законное право на наше внимание; но их значение вторично сравнительно с Евангелием" (там же). Проведя несколько месяцев в Сурожской общине, Филоненко почувствовал себя "ближе к пониманию┘ собственных духовных трудностей, возникших от встречи православного предания с современной постсоветской культурой".3 Эти трудности существуют не только на повседневной поверхности жизни, но и в стремлении к внутренней глубине. "Знакомство с жизнью Сурожской епархии позволило мне перенять другой аспект открытости, исключительно важный для понимания религиозности в постсоветском контексте┘"
Филоненко цитирует беседу Антония с американским ученым Джекобом Нидлменом: "Нидлмен был поражен видимо парадоксальным утверждением Антония, что "эмоция должна быть разрушена" и "мы должны освободиться от эмоций.., чтобы достичь чувства". (Эту мысль можно выразить несколько иначе: глубинное религиозное чувство пробудится только тогда, когда замолкнут более поверхностные эмоциональные слои. - Г. П.) Он (Нидлмен - Г. П.) вернулся назад к самому началу (беседы - Г. П.) и спросил митрополита Антония: "Что такое молитва?" И я сам был поражен ответом на этот вопрос: "В молитве человек уязвим┘ Вы не должны быть охвачены ни энтузиазмом, ни отрицанием - но только открытым. Это вся цель аскезы - открыться". "Таким образом, - продолжает Филоненко, - открытость обнаруживает свое аскетическое измерение, раскрываясь как уязвимость. Между тем, разве мы часто не склонны ассоциировать религиозный поиск со стремлением к неуязвимости? Я лично хотел бы добавить, что отождествление религиозного поиска с поиском неуязвимости - быть может, самое нездоровое проявление постсоветской религиозности┘ По словам митрополита Антония, мы должны согласиться быть только тем, чем Бог был, Бог, как он явился в Его откровении: уязвимым, беззащитным, презираемым за это и презренным, и в то же время откровением чего-то исключительно важного: величия человеческого рода".4
На конференции Сурожской епархии, 8 июня 2000 г., митрополит Антоний раскрыл еще один аспект открытости: уязвимость обвинению в ереси, отстаивая единство веры и свободы. Текст беседы частично опубликован в "Русской мысли".5 "У меня очень ясное, яркое чувство, - начал вл. Антоний, - нет, скорее темное чувство, что, вступая в третье тысячелетие, мы вступаем в какую-то темную, сложную, в некотором смысле, нежеланную пору. Что касается церковности, вера должна оставаться цельной (это положение в дальнейшем уточняется - Г.П.), но мы не должны бояться думать свободно и высказываться свободно. Все это в свое время придет в порядок; но если мы будем просто без конца повторять то, что было сказано раньше, давно, то все больше и больше людей будет отходить от веры (я сейчас не столько о России думаю, сколько обо всем мире); и не потому, что то, что раньше говорилось, неверно, а потому, что - не тот язык и не тот подход. Люди другие, времена другие, думается по-иному. И мне кажется, что надо вкореняться в Бога и не бояться думать и чувствовать свободно".
Последние несколько слов подчеркнул я. И здесь же, нарушая последовательность беседы, привожу самую важную формулировку, что такое "цельность веры", "вкоренение в Боге": "Нам нужны верующие - люди, которые встретили Бога (интонационно подчеркнуто вл. Антонием - Г. П.). Я не говорю в грандиозном смысле, не каждый может быть апостолом Павлом (встретившим Христа в своем сердце, когда шел в Дамаск бороться с христианством - Г. П.), но которые, хоть в малой мере, могут сказать: я Его знаю! И он, и она, они тоже нечто подобное знают, и мы можем вместе стоять, даже если у нас обычаи разные". Встреча с Богом, чувство реальности Бога ставится, таким образом, над различиями буквы поместных Церквей, вероисповеданий, религий. В другой беседе, которую вспоминает участник конференции Ф. Василюк, вл. Антоний выразил свою мысль еще резче. Рассказывая о том, что никакого религиозного образования он в детстве не получал, митрополит воскликнул: "Как я рад, что Церковь и попы не испортили мне чувство Бога!" Это на той же 21-й странице "Русской мысли", ╧ 4327.
Верующие в современной России "испуганы, боятся сделать что-то "не то", - продолжает вл. Антоний. - После всех этих лет, когда не было возможности свободно думать и говорить друг с другом и как бы перерастать XIX век, очень много страха и желания непременно только повторять то, что уже принято и уже стало языком Церкви и мыслью Церкви. Это должно рано или поздно перемениться┘ Не упускаем ли мы момент, данную нам возможность стать из церковной организации Церковью (резко интонационно подчеркнуто и выделено жирным шрифтом в публикации Е. Майданович - Г. П.).
После всех этих лет, когда можно было Церкви продолжать существовать только крайней верностью всей форме, конечно, очень страшно начать думать и начать ставить вопросы. Удивительно, что в древности отцы Церкви только тем и занимались, что вопросы ставили. Если они ответы давали, то потому, что сами же и вопросы ставили. Ответы не падали с неба на несуществующие вопросы┘
Отец Георгий Флоровский мне как-то сказал: знаете, нет ни одного отца, у которого нельзя найти ереси, за исключением Григория Богослова, который был такой осторожный, что ничего лишнего не сказал┘ Я думаю, что очень важно, чтобы сейчас мы мыслили и делились мыслями - даже с риском, что мы завремся, - кто-нибудь нас поправит, вот и все.
Помню, как я был смущен, когда Николай Зернов, пятьдесят лет назад, мне сказал: "Вся трагедия Церкви началась со Вселенских соборов, когда стали оформлять вещи, которые надо было оставить еще гибкими". Я думаю, что он был прав - теперь думаю. Это не значит, что Вселенские соборы были не правы, но они говорили то, до чего они дожились. И с тех пор богословие тоже до чего-то дожилось".
Антоний Блум заговорил во весь голос, когда не мог больше ждать, когда, по его словам, "учености и богословского образования все равно не могу получить, не могу усовершенствовать и хочу говорить только о том, что созрело у меня в душе┘", с отчетливым сознанием, что "будут моменты, которые не будут восприняты с симпатией". Пятнадцатилетний подросток, случайно взяв в руки Евангелие, был потрясен встречей с Христом и радостно принимал на веру все, что ему говорит старец, выбранный им в учители. Но постепенно его ум освобождался. То, что ужасало пятьдесят лет тому назад, сегодня стало его собственным убеждением. И он не в силах унести в могилу, не высказав творческое сомнение в букве, заслоняющей дух веры. По сути дела, то, что он говорил 8 июня, - христианская параллель к дзэнской формуле: "Для спасения нужна великая вера, великое рвение и великое сомнение в словах будд и патриархов"; и нужно "не смешивать луну с пальцем, указывающим на луну".
Говоря о современном состоянии России, вл. Антоний повторяет известное многим сравнение: "Сейчас происходит то, что случилось, когда евреи покинули Египет. Они вышли на свободу, а свобода оказалась совсем нежеланной. Все говорили: к чему мы ушли? Где котлы, полные мяса и вкусных вещей? Теперь у нас только песок вокруг да еще что-нибудь, что мы славим┘ Это одно. И второе: перейти из Египта в землю обетованную можно было в несколько дней, ну, неделю. Они бродили сорок лет. Почему? Потому что Бог им определил бродить, пока не умрет все поколение, которое выросло в рабстве, и пока не вырастет то поколение, которое выросло на свободе и в совершенно дикой обстановке, где была только вера в Бога и ничего другого".
Свобода подымается вл. Антонием до уровня религиозного принципа: "свободно" не означает свободомыслия (видимо, в смысле отрицания основ веры - Г. П.) или презрения к прошлому, к традиционному, но - Бог рабов не хочет: "Я вас не называю больше рабами. Я вас называю друзьями┘", и мне кажется это страшно важным: что мы могли бы думать и с Ним делиться. Есть очень многое, чем мы могли бы делиться с Ним в новом мире, в котором мы живем".
Православие, в понимании вл. Антония, переосознается как диалог с Христом. Это ближе к диалогам Ветхого Завета, чем к византийскому чину. Встает в памяти книга Иова. Это могло бы стать духовной основой "открытого общества" в постсоветской России. И тогда осуществились бы чаяния тех моих западных собеседников, которые ждали от России возрождения подлинной восточной Церкви, способной вступить в диалог с западными Церквами и восполнить единство христианской экумены. Совершится ли это в наступающем веке? Будет ли услышан призыв вл. Антония?
Пока что мы вертимся в порочном кругу: свободная Россия не выстраивается без Церкви веры и свободы, а такая Церковь никак не складывается из людей, выросших в рабстве.
Примечания
1 Religion, State and Society, Vol. 27, ╧ 1, 1999..2 Там же, с. 63..
3 Там же, с. 61.
4 Там же, с.69.
5 Русская мысль, 20-26 июля с.г., ╧ 4327.